Виртуальный музей В.Г.Белинского |
|
|
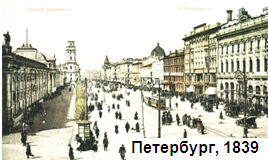 Мы упоминали уже о том, что после запрещения "Телескопа" Белинский взялся за редактирование "Московского наблюдателя" -- захудалого журнальца, издававшегося неким Степановым, человеком, совершенно чуждым литературе. Журнал не пошел, денег на издание не было, и положение Белинского было безвыходным. Краевский как раз в это время организовал редакцию для приобретенных им от Свиньина "Отечественных записок", и Белинский обратился к Панаеву, хорошо знавшему Краевского, с просьбою сблизить его с новым журналом. Рассказ Панаева об этом дышит такой правдой и так хорошо обрисовывает еще одну сторону Белинского -- его крайнюю непрактичность,-- что мы не пожалеем для него здесь места. Вот этот рассказ. "-- Нет,-- сказал Белинский,-- мне во что бы ни стало надобно вон из Москвы... Мне эта жизнь надоела и Москва опротивела мне. Что, как вы думаете, можно будет как-нибудь уломать жида Краевского? Надобно сказать, что Белинский в первые же дни нашего знакомства, сообщая мне о погибели "Наблюдателя", объявил, что он не прочь был бы переехать в Петербург и принять на себя критический отдел в "Отечественных записках". Я не скрыл от него, как Краевский отзывается о нем. -- Он вполне надеется,-- прибавил я,-- что Межевич оживит его журнал своей критикой, и я оставил их в самом приятном и дружеском расположении. Белинский горько улыбнулся. -- Ну, нечего сказать, хорош ваш Краевский!.. Да ведь этот Межевич -- бесталаннейший смертный, совершенная тупица... Межевич ничего не может сделать, ему понадобится непременно другой человек; а вы между тем напишите ему, что я не прочь... разумеется, за хорошее вознаграждение; напишите, что у меня есть статья о "Менцеле" -- и расхвалите ее, разумеется, как можно больше и что эту статью я предназначаю для его журнала... Она еще не написана,-- ну, да это все равно. Сблизьте меня как-нибудь с ним, да обделайте это дело половчее... Не говорите ему о моей нищете; он, пользуясь этим, еще, пожалуй, прижмет меня". Какая, подумаешь, необычайная "тонкость обращения"! Сколько дипломатии обнаруживает этот критик Макиавелли и каково придется бедному редактору в сношениях с таким хитрейшим сотрудником! Панаев сделал свое дело, и как только Белинский вступил в непосредственные сношения с Краевским, все его белыми нитками шитые хитрости пошли прахом: он сейчас же забрал у Краевского денег вперед на уплату долгов и на отъезд из Москвы и за одну тысячу рублей серебром в год принял на себя весь критический и библиографический отдел "Отечественных записок". Вот это называется ловко обделать выгодное дело! Андрей Краевский не имел ни малейшей роли в развитии понятий и идей Белинского, и мы на его личности останавливаться не намерены. Это был не мыслитель, а делец; не литератор, а литературный антрепренер. Его отношения к Белинскому совершенно походили на отношения главноуправляющего к Пьеру Безухову в романе "Война и мир" Толстого: "главноуправляющий, весьма глупый и хитрый человек, совершенно понимал умного и наивного графа и играл им, как игрушкой". Белинский был наивен, как дитя, и Краевскому не составило никакого труда превратить его в клячу, в щедринского "конягу" своего журнала -- конягу, которому надо только приговаривать: "Но, но, каторжный!" да изредка подсыпать овсеца, чтобы он влег в хомут изо всех своих сил. В Краевском была та хорошая черта, что в глубине души он знал свой шесток и, умеренно и аккуратно гешефтмахерствуя {от Geschäftemacher -- предприниматель (нем.).}, не лез на пьедестал, не претендовал на идейное руководительство, не стремился к нравственному главенству. Он поступил наоборот: Белинский дебютировал в его журнале крайне резкими статьями в духе своего московского настроения -- и Краевский похваливал их. В Белинском произошел идейный перелом, и он начал писать статьи совершенно в противоположном направлении -- Краевский и эти статьи одобрял. С точки зрения Краевского он нисколько не противоречил себе: ведь и те, и другие статьи Белинского представляли собою ходкий товар, а это только и нужно было антрепренеру. За Краевским, во всяком случае, остается серьезная заслуга организатора журнала, в котором могли высказаться Белинский и его друзья, и хотя последнее совершилось не только помимо воли, но и помимо сознания организатора, тем не менее не будь Краевского, не было бы журнала. Самая прекрасная девушка не может дать больше того, что сама имеет, как говорит французская пословица, и неужели было бы лучше, если бы Краевский употребил данные ему Богом таланты на организацию не журнала, а какого-нибудь увеселительного заведения? Всякий свое получил: Краевский -- деньги, Белинский -- любовь и уважение нескольких поколений. Желчные обвинения, высказанные Панаевым в адрес Краевского, главным образом, из-за Белинского, не имеют под собой никакого основания. Переезд Белинского в Петербург состоялся в октябре 1839 года. Пыпин хорошо оценивает значение этого переезда для Белинского. "Петербург,-- пишет Пыпин,-- прежде всего отрывал Белинского от тесного кружка, в котором до тех пор сосредоточивалась его жизнь, и внешняя, и внутренняя, и который так способствовал развитию и укреплению его крайне идеалистического настроения. Эта жизнь в кружке уже исчерпывала себя к концу пребывания Белинского в Москве; личные раздоры были признаком, что в кружке появилось что-то ненормальное, натянутое; необходимо было освежение после душного воздуха идеалистической экзальтации, выход в простую реальную жизнь. Переселение в Петербург было кризисом. Он был мучителен для Белинского, потому что надо было отказаться от давней привычки, становившейся второй природой, отказаться от постоянных личных связей, где, кроме пищи идеализму, Белинский находил себе и искреннее сочувствие, в котором так нуждался. В Петербурге его окружали новые люди; он встречал и от них много искреннего расположения, но для дружбы с ними не было у него тех "исторических оснований", которые он считал необходимыми и которые действительно для нее необходимы. Нужно было время, чтобы он освоился с новой обстановкой". Сказано справедливо. Но более важное указание Пыпина на сущность переворота, вскоре происшедшего во взглядах Белинского, требует и серьезной поправки. Пыпин говорит: "Основная черта этой внутренней жизни заключается именно в том, что для Белинского все больше и больше разъясняется фантастическое преувеличение его прежней точки зрения и раскрывается иной взгляд на вещи, который наконец и становится его господствующим воззрением. Весь этот перелом произошел в течение первого же года его пребывания в Петербурге, и произошел в нем самостоятельным развитием: посторонние влияния, которые действовали до известной степени, были только поводом, а главной причиной перелома было его собственное развитие, встреча с непосредственной действительностью, которой до того времени он не видел за философскими фантасмагориями московского кружка. На него подействовали не столько теоретические возражения, сколько сама жизнь, и, раз ее увидев, раз над нею задумавшись, он сам переделал всю систему своих понятий..." Петербургская действительность, будто бы отрезвившая Белинского от его оптимизма, разумеется, очень мало отличалась от московской действительности, так что приписывать ей первую роль в деле умственного переворота, происшедшего в Белинском, очевидно, нет оснований. Наоборот, по крайней мере со стороны внешней культурности и внешнего блеска, петербургская жизнь могла бы примирить с собою поверхностного наблюдателя, как это часто и бывало на самом деле. Известная, например, иллюзия нашего государственного "могущества" очень привлекательна... Не потому Белинский эмансипировался от "философских фантасмагорий" кружка, что физически разлучился с ним, а потому, и только потому, что к этому привел его процесс его развития. С полной уверенностью утверждаем мы, что если бы Белинский остался в Москве и в состав кружка вошли бы еще несколько новых Станкевичей и Боткиных -- результат был бы тот же самый. Белинский пережил эту фазу развития, перерос кружковую философию -- вот вся история его умственного переворота, происшедшего единственно и исключительно в силу внутренних мотивов и процессов. Белинский принадлежал к числу тех натур, которые развиваются пусть болезненно и трудно, но непрерывно, развиваются (вспомним, например, Салтыкова) даже тогда, когда начинается упадок физических сил. Вспомним еще раз слова Белинского, что ему, ради философии, приходилось "жертвовать самыми задушевными субъективными чувствами своими". Для людей отвлеченной и пассивной благожелательности, каким был Станкевич, или для людей индифферентных, как Боткин, такой разлад с самим собою, такой диссонанс между мыслью и непосредственным чувством был нечувствителен. Великое преимущество Белинского над всеми его друзьями состояло (помимо литературного таланта) именно в активности его совести, в том, что он жаждал не только истины, но и справедливости. Будучи человеком, он не мог быть только "головастиком". Состояние кризиса, в котором находился Белинский, прекрасно выражено им в одном из его писем. "Мне,-- писал Белинский,-- теперь ни до кого нет дела, я никого не люблю, ни в ком не принимаю участия,-- потому что для меня настало такое время, когда я увидел ясно, что или мне надо стать тем, чем я должен быть, или отказаться от претензии на всякую жизнь, на всякое счастие... Но я не могу и спиться. Мне остается одно: или сделаться действительным, или до тех пор, пока жизнь не погаснет в теле, петь вот эту песенку -- Я увял, и увял Навсегда, навсегда, И блаженства не знал Никогда, никогда!" Вот как заговорил человек, который еще так недавно толковал о "мире", "гармонии" и "счастии", добытых им путем отвлеченной мысли. Столь упорно и долго подавляемые "задушевные субъективные чувства" взяли наконец верх над диалектическими построениями -- и в этом состояла нравственная сторона овладевшего Белинским кризиса. Идейное содержание нового направления Белинского определить еще легче. Строго говоря, формулу этого направления Белинский мог бы почерпнуть из той же гегелевской философии, которую он исповедовал и которую -- как оно и было на самом деле -- можно было истолковывать до того различно, что "гегельянцы" -- последователи одного и того же учителя -- разошлись в разные стороны и относились друг к другу с решительной враждебностью. "Что действительно, то разумно" -- вот как резюмировались московские воззрения Белинского. "Что разумно, то действительно" -- вот та формула, которая с достаточной полнотой могла бы выразить воззрения Белинского петербургского периода. "Что разумно" -- т.е. все, что допускается мыслью, все формы жизни, все идеалы и общественные построения, мыслимые нашим разумом, суть действительны -- не в смысле реальностей, а в смысле возможностей. Очевидно, что в этих рамках нет ни малейшего стеснения для "задушевных субъективных чувств", нет никаких поводов к разладу между разумом и любовью. Напротив, в последнем своем выражении и развитии эта формула -- "что разумно, то действительно" -- превращается логически в следующую: "что нравственно и справедливо, то разумно, что разумно, то действительно". Читатель, надеемся, без труда сообразит, что такая формула не к квиетизму {здесь -- безучастному, пассивному отношению (фр.).} ведет, а призывает к деятельности, открывает горизонты и перспективы почти бесконечные. Белинский, например, с первых же шагов в новом направлении решил, что он "совсем не автор для немногих", каким он хотел быть прежде, что он должен писать не для друзей, а для публики. Переворот произошел в Белинском, конечно, не вдруг, а мало-помалу, как процесс органический, а не механический. В письмах, приведенных в книге Пыпина, можно почти шаг за шагом проследить развитие этого процесса. Вот, например, что он писал из Петербурга Боткину: "Да, по-прежнему брезгаю французами... но идея общества обхватила меня крепче -- и пока в душе останется хотя искорка, а в руках держится перо,-- я действую. Мочи нет, куда ни взглянешь -- душа возмущается, чувства оскорбляются. Что мне за дело до кружка -- во всякой стене, хотя бы и не китайской, плохое убежище. Вот уже наш кружок и рассыпался, и еще больше рассыплется, а куда приклонить голову, где сочувствие, где понимание, где человечность? Нет, к черту все высшие стремления и цели! Мы живем в страшное время, судьба налагает на нас схиму, мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче жить... Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку "Оз.". Я -- литератор, говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением. Литературе расейской моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупеть, чтобы расейская публика лучше понимала меня; благодаря одуряющему влиянию финских болот и гнусной плоскости, на которой основан Питер, надеюсь вполне успеть в этом..." По поводу этого отрывка сделаем мимоходом одно замечание, касающееся вообще всей переписки Белинского. Письма Белинского -- замечательные литературные произведения, более замечательные, нежели его печатные статьи. Непринужденный тон этих писем, неожиданные переходы от горького сарказма к веселой шутке, меткие эпитеты, прелестные сравнения, иногда лучше всяких общих определений представляющие предмет,-- все это дает истинную мерку того, как мог бы писать Белинский при более благоприятных условиях. Заслуга Пыпина, разыскавшего и напечатавшего эти письма,-- заслуга, можно сказать, незабвенная. В другом письме, написанном около того же времени, Белинский жалуется на овладевшую им апатию -- вернейший признак и неизбежный спутник всяких серьезных переломов, как личных, так и общественных,-- но тут же намекает и на возможность исцеления: "Мне,-- пишет он,-- остается одно: объективный интерес моей литературной деятельности. Только тут я сам уважаю себя... потому что вижу в себе бесконечную любовь и готовность на все жертвы, только тут я и страдаю, и радуюсь не о себе и не за себя, только тут моя деятельность торжествует над ленью и апатией. И потому я больше горжусь, больше счастлив какою-нибудь удачною выходкою против Булгарина, Греча и подобных... нежели дельною критическою статьею... Видно, и в самом деле я нужен судьбе как орудие (хоть такое, как помело, лопата или заступ), а потому должен отказаться от всякого счастия, потому что судьба жестока к своим орудиям -- велит им быть довольными и счастливыми тем, что они -- орудия, а больше ничем, и употребляет, пока не изломаются, а там бросает. Так и я: в жизни... помучусь, поколочусь... а там... погружусь в мировую субстанцию и в ней заживу на славу. Лестная перспектива впереди?.." Прошло еще немного времени, и Белинский делает новый шаг в том же направлении: "С французами я помирился совершенно: не люблю их, но уважаю. Их всемирно-историческое значение велико. Они не понимают абсолютного и конкретного, но живут и действуют в их сфере. Любовь моя к родному, к русскому, стала грустнее: это уже не прекраснодушный энтузиазм, но страдальческое чувство. Все субстанциальное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнусно, грязно, подло". Еще несколько месяцев усиленной внутренней работы, перемежавшейся припадками настоящего отчаяния -- и "неистовый Виссарион" начинает неистовствовать с прежнею силою, но уже совершенно на другой мотив. Как бы то ни было, соглашение произошло -- и "Отечественные записки" (редактор которых благоразумно и тактично оставил в своем ведении только административную и экономическую часть дела) сделались центром и органом всего передового, талантливого и живого в нашей тогдашней литературе. Идея личности и ее прав, не в духе отвлеченно морального гуманизма, а в смысле задачи простого общественного благоустройства, в смысле требования, вытекающего из самой природы всякого общежития -- эта плодотворная идея всецело овладела Белинским. Он развивал эту идею на почве эстетических вопросов и в форме анализа чисто литературных явлений, и то же самое делали его сотрудники-друзья в других сферах мысли и науки. Благодаря этому журнал достиг редкого единства направления и благодаря единству приобрел огромное умственное влияние на общество. В одном из своих писем к Боткину после перелома Белинский с прелестной шутливостью, но и с замечательной ясностью и глубиною определяет все содержание своего нового миросозерцания. "Ты,-- пишет он Боткину,-- я знаю -- будешь надо мною смеяться... (это, в скобках сказать, хорошо характеризует Боткина); но смейся, как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира! Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, а споткнешься, падай -- черт с тобою -- таковский и был сукин сын... Благодарю покорно, Егор Федорович (Гегель),-- кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития,-- я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр., пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастия и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови... Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии. Впрочем, если писать об этом все,-- и конца не будет". От этой шутливости веет бодростью, и Белинский чувствовал себя в это время так, по-видимому, хорошо и мирно, что даже об известных русских общелитераторских огорчениях сообщает с добродушным юмором: "в "О.з." напечатана моя вторая статья о Петре Великом; в рукописи это точно о Петре Великом и, не хвалясь, скажу, статейка умная, живая; но в печати -- это речь о проницаемости природы и склонности человека к чувствам забвенной меланхолии". Такое мирное настроение Белинский, однако, сохранял только для приятелей. В журнале он вел упорную борьбу с противниками своих мнений, которые в это время (1841 г.) успели обзавестись еще одним органом -- "Москвитянином", издававшимся под редакторством Погодина и Шевырева. Полемика была вообще одною из любимых стихий Белинского, а в данном случае он тем охотнее бросился в борьбу, что Погодин и Шевырев были все-таки более приличные противники, нежели Булгарин и Греч, и что московский журнал явился выразителем тех самых тенденций, которые только что отвергнул Белинский, но тенденций, доведенных до уродливой исключительности. Идеальный, общефилософский элемент был изгнан из этих тенденций, и они сводились к превознесению не действительности вообще (как это было у Белинского), а действительности национальной. Казалось бы, оно довольно безобидно: всяк кулик свое болото хвалит, как говорит пословица. Но дело, конечно, не могло остановиться на платоническом национальном бахвальстве, а развилось в целое учение, которое тогда называли славянофильским, но которое вернее было бы назвать просто русопятским. Полемика эта продолжалась, однако, недолго, ввиду солидности тех аргументов, которые "москвитяне" выдвинули против Белинского после первой же его статьи о них. "Смотрите, чтобы не было вам какой беды...",-- писал впопыхах Боткин в редакцию "Отечественных записок" и сообщал факты, которые действительно пахли "бедою". Позднее, в 1842 году, при появлении первой части "Мертвых душ", Белинский дал славянофилам в лице Константина Аксакова, своего бывшего приятеля и единомышленника, генеральную битву, которая, впрочем, была только эпизодом общей борьбы, разгоревшейся тогда между "западниками" и славянофилами и, в сущности, продолжающейся до сих пор. Русский человек в большинстве своих слабостей (беспечности, беспорядочности, нерегулярности), как и в большинстве своих достоинств (альтруистичности, сердечной нежности и мягкости, скромности), Белинский в формальном смысле по-русски и работал: полосами и запоями. Дни и недели проходили в письменных и устных беседах с приятелями, в игре в преферанс и т.д.-- "глядь, уж и 15-е число на дворе, Краевский рычит, у меня в голове ни полмысли, не знаю, как начну, что скажу, беру перо и статья будет готова -- как, я сам не знаю, но будет готова". Это признание характеризует нечто гораздо большее, нежели простые приемы работы. Дело в том, что сила таланта Белинского заключалась не столько в доказательности его доводов, сколько в убедительности его тона, того постоянного одушевления, с каким он говорил о предмете. Сердце автора давало весть сердцу читателя. А для этого не требовалось ни строгой обдуманности общего плана работы, ни соразмерности частей, ни особой чистоты языка, а требовалось, чтобы автор в каждую минуту и на каждой строке был самим собою, не насиловал ни своего ума, ни своей совести,-- условие страшно трудное и невыгодное для всех, кроме таких людей, как Белинский. Белинскому не надо было заметать никаких своих следов, не надо было прятать никаких своих хвостов: он сердился на свои прошлые ошибки, но не стыдился их -- и по праву, потому что ведь и ошибаясь он оставался все тем же алчущим и жаждущим правды человеком, каким был по натуре. И вот почему его статьи-импровизации сплошь да рядом выходили удачнее, убедительнее, действительнее, нежели его более обдуманные работы. Для его впечатлительной натуры достаточно было небольшого внешнего побуждения, чтобы душа его "встрепенулась, как пробудившийся орел", и, раз начавши работу, возбуждаемый ее процессом, он не только быстро справлялся с нею, но благодаря ей подготовлял незаметно для самого себя и новые темы, и новые идеи, и новые доводы для будущего. Развивая свои идеи, он развивался сам. Счастливая способность, свойственная всем очень даровитым людям,-- ассоциировать и обобщать постоянно раздвигала его умственные горизонты. Он мог сказать об идеях то, что сказал Пушкин о рифмах: "две придут сами, третью приведут". А внешние, нужные ему импульсы заключались в самом его положении литературного батрака. "Я -- Прометей в карикатуре: "Отеч. записки" -- моя скала, Краевский -- мой коршун"; эта забавная шутка Белинского, конечно, не отражала истинного положения дела: коршун Прометея мучительствовал бессмысленно и бесплодно; но коршун Белинского, заботясь о своих интересах, работал на пользу общественную. Более чем вероятно, что без этого "коршуна", без его хозяйских прав над Белинским немалая доля той нервной силы, которая вложена в статьи Белинского, была бы ухлопана на бесчисленные пульки в преферанс, о своем пристрастии к которому Белинский писал в Москву: "страсть моя к преферансу ужасает всех. Я готов играть утром, вечером, ночью, днем, не есть и играть, не спать и играть" {*) Вот как, например, Кавелин рассказывает об игре Белинского в карты: "Поверит ли читатель, что в нашу игру, невиннейшую из невинных, которая в худшем случае оплачивалась рублем, двумя, Белинский вносил все перипетии страсти, отчаяния и радости, точно участвовал в великих исторических событиях? Садился он играть с большим увлечением и, если ему везло, был доволен и весел... поставя несколько ремизов, Белинский становился мрачным, жаловался на судьбу, которая его во всем преследует, и наконец с отчаянием бросал карты и уходил в темную комнату".}. В конце 1843 года Белинский женился на москвичке, сближение с которой произошло летом того года, в одну из его поездок из Петербурга для свидания с московскими друзьями. "Важность этого события для Белинского,-- говорит Пыпин,-- должна быть ясна читателю из того, что мы знаем о его нравственном настроении в эти годы". Огромная значимость женитьбы для Белинского вытекала не из какого-либо частного, временного, нравственного его настроения, а из всех свойств натуры и характера. Для людей, подобных Белинскому, находящихся в состоянии постоянного возбуждения, радостного или горестного волнения даже по поводу ничтожнейших мелочей,-- мир и покой тихой семейной жизни был бы самой лучшей обстановкой в смысле, если так можно выразиться, нравственной гигиены. Белинскому была нужна не Далила, а Пенелопа, и притом такая, которая, кроме хозяйственных талантов и "волооких" очей, имела бы хоть смутное понятие о значении своего Улисса и судила бы о нем не по-камердинерски. К сожалению, этот существенно важный пункт биографии Белинского остается неясным. Госпожа Белинская умерла только в 1890 году, пережив своего мужа на сорок с лишним лет, и Пыпин по чувству понятной деликатности воздержался от опубликования переписки Белинского с друзьями, касавшейся семейной жизни нашего критика. Пыпин только глухо говорит, что "у домашнего очага началась для Белинского новая жизнь, с ее особыми интересами и тревогами"... Ясно, что в "новой" жизни Белинский нашел только "особые" тревоги, хотя и прежних его тревог, нужных и ненужных, осмысленных и неосмысленных, было более чем достаточно для такого "сосуда скудельного", каким был его физический организм. В конце 1845 года Белинский, так много и плодотворно поработавший для "Отечественных записок", должен был оставить этот журнал из-за каких-то несогласий с его редакцией. Конечно, в этих несогласиях гораздо меньше удивительного, нежели в шестилетнем "согласии" между такими антиподами, как Белинский и Краевский. На вопросы своих московских друзей -- как должны смотреть они на этот разрыв,-- Белинский писал: "отвечаю утвердительно: радоваться; дело идет не только о здоровье, о жизни, но и уме моем. Ведь я тупею со дня на день. Памяти нет, в голове хаос от русских книг, а в руке всегда готовые общие места и казенная манера писать обо всем. Ты не знаешь этого положения. А что я могу прожить и без "Отечественных записок", может быть, еще лучше, это, кажется, ясно. В голове у меня много дельных предприятий и затей, которые при прочих занятиях никогда бы не выполнились, и у меня есть теперь имя, а это много". Само собою разумеется, что Краевский совершенно не догадывался о значении Белинского, смотрел на него как на литературного чернорабочего и заваливал работой, которая была ниже его достоинства. Белинский был в его глазах только чуть-чуть побольше, нежели метранпаж типографии -- и, повторяем, нужно только удивляться долготерпению критика, шесть лет проработавшего при таких условиях. "Дельные предприятия и затеи" Белинского, конечно, не удались и не могли удаться по совершенной непригодности его к практическим делам, но как раз в это время пушкинский "Современник", пришедший в совершенный упадок под редакцией Плетнева, перешел в руки Панаева и Некрасова -- друзей и почитателей Белинского. Некрасов был практиком не хуже Краевского, но он был, кроме того, первоклассным писателем, и Белинский мог бы работать в журнале, не тревожась за редакционную сторону дела. Но было поздно. Песня Белинского была почти спета. Еще в 1846 году московские друзья, ввиду тяжелого состояния его здоровья, устроили ему поездку на юг России. В следующем году они же нашли средства для отправления его за границу. Ни та ни другая поездки не принесли здоровью Белинского ни малейшей пользы, да нисколько не освежили его и в нравственном смысле. Дело в том, что никакие новые впечатления не могли заглушить его старых забот, в числе которых забота о "расейской литературе" стояла на первом плане. Живя в Крыму, он не переставал мысленно воевать со своими главными литературными врагами -- славянофилами. Один отрывок из его крымских писем мы приведем -- не только к удовольствию, но и для пользы читателя: "Въехавши в Крымские степи, мы увидели три новые для нас нации: крымских баранов, крымских верблюдов и крымских татар. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колена одного племени: так много общего в их физиономии. Если они говорят и не одним языком, то тем не менее хорошо понимают друг друга. А смотрят решительно славянофилами. Но -- увы! -- в лице татар даже и настоящее, коренное, восточное патриархальное славянофильство поколебалось от влияния лукавого Запада. Татары большей частью носят на голове длинные волосы, а бороду бреют! Только бараны и верблюды упорно держатся святых праотческих обычаев времен Кошихина -- своего мнения не имеют, буйной воли и буйного разума боятся пуще чумы и бесконечно уважают старшего в роде, т.е. татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себе спросить его, почему, будучи ничем не умнее их, гоняет он их с места на место. Словом, принцип смирения и кротости постигнут ими в совершенстве, и на этот счет они могли бы проблеять что-нибудь поинтереснее того, что блеет Шевырев и вся почтенная славянофильская братия". За границей Белинский точно так же думал только об интересах родной литературы и родного общества. Здесь именно написал и отсюда послал он свое знаменитое письмо к Гоголю по поводу книги "Переписка с друзьями",-- письмо, которое мы не будем приводить в извлечениях Пыпина, надеясь, что оно известно читателю целиком. Тургенев, бывший "путеводителем" Белинского в Париже, хорошо характеризовал это равнодушие нашего "западника" к культурным чудесам Запада. "Он,-- рассказывает Тургенев о Белинском,-- изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию... Уж очень он был русский человек и вне России замирал, как рыба на воздухе. Помню, в Париже он в первый раз увидал площадь Согласия и тотчас спросил меня: "Не правда ли? Ведь это одна из красивейших площадей в мире?" -- И на мой утвердительный ответ воскликнул: "Ну, и отлично; так уж я и буду знать,-- и в сторону, и баста!" и заговорил о Гоголе. Я ему заметил, что на самой этой площади во время революции стояла гильотина и что тут отрубили голову Людовику XV; он посмотрел вокруг, сказал: "А!" -- и вспомнил сцену Остаповой казни в "Тарасе Бульбе". Возвратившись в Петербург -- опять "на оный путь, журнальный путь",-- Белинский взялся за работу с особенной энергией. Дело в том, что изнурительная болезнь (чахотка) и ему самому, и его друзьям внушала самые серьезные сомнения в его работоспособности. "Дело прошлое,-- писал он потом, когда убедился в неосновательности своих сомнений,-- а я и сам ехал за границу с тяжелым и грустным убеждением, что поприще мое кончилось, что я сделал все, что дано было мне сделать, что я выписался и... стал похож на выжатый и вымоченный в чае лимон. Каково мне было так думать, можете посудить сами: тут дело шло не об одном самолюбии, но и о голодной смерти с семейством. И надежда возвратилась мне с этой статьею". Надежда была напрасна. Болезнь делала свое разрушительное дело, а тут приспел 1848 год... Белинский продолжал еще работать, но уже принужден был не писать, а диктовать свои статьи и рецензии. К физическим страданиям присоединились тяжелые нравственные беспокойства, помогавшие болезни. Свеча догорала с обоих концов. "Я,-- рассказывает Панаев,-- раз зашел к нему утром, это было или в последних числах апреля, или в первых мая. На двор, под деревья, вынесли диван -- и Белинского вынесли подышать чистым воздухом. Я застал его уже на дворе. Он сидел на диване, опустя голову и тяжело дыша. Увидев меня, он грустно покачал головою и протянул мне руку, всю покрытую холодным потом. Через минуту он приподнял голову, взглянул на меня и сказал: "Плохо мне, плохо, Панаев!" Я начал было несколько слов в утешение, но он перебил меня: "Полноте говорить вздор". И снова молча и тяжело дыша опустил голову". 26 мая 1848 года Белинский умер.
|
